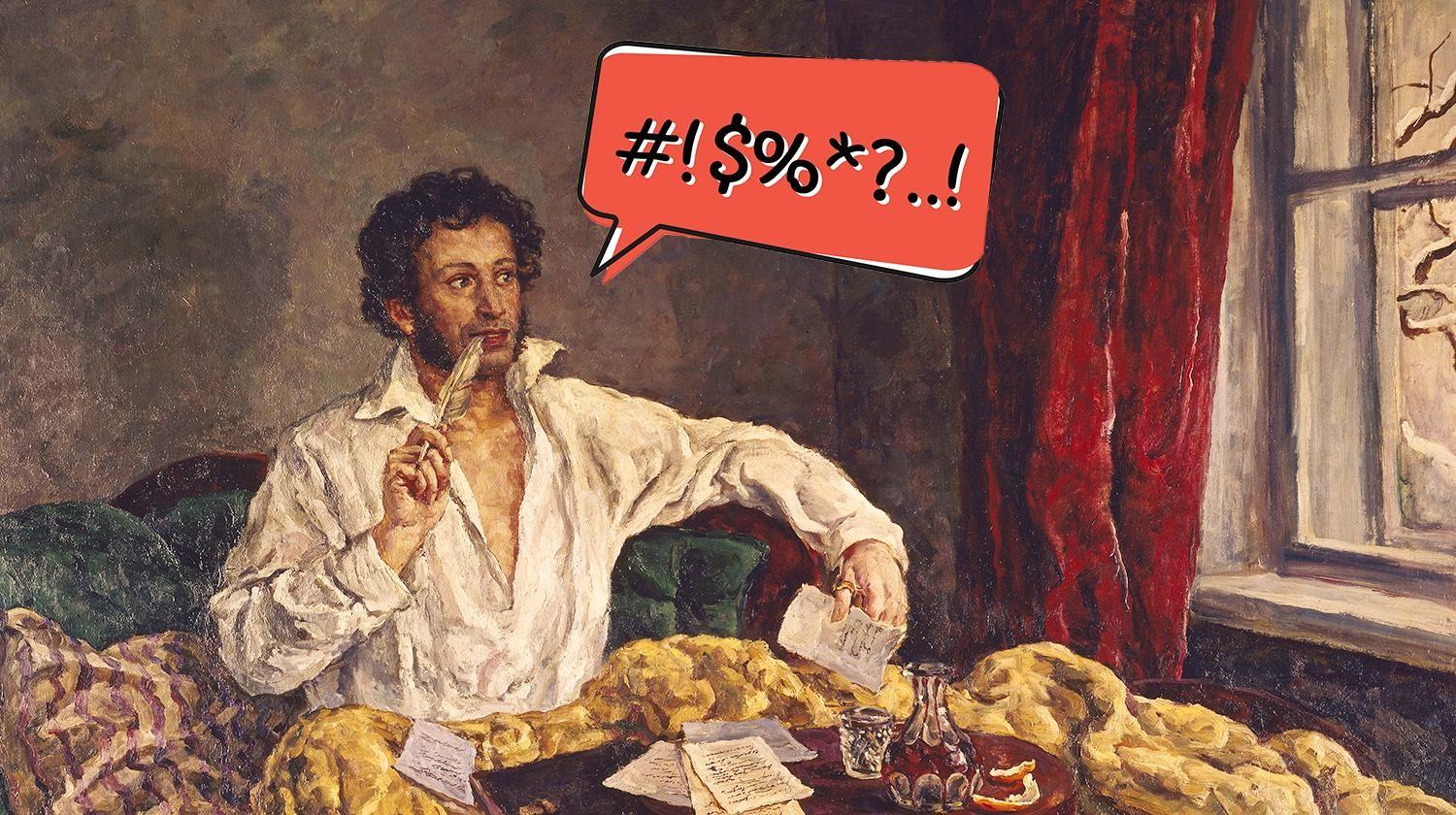
«В Академии наук заседает князь Дундук… Почему ж он заседает? Потому что **** есть», — писал Пушкин, не стесняясь грубостей ради меткой насмешки. Прошло почти два века, но многое не изменилось.
В XXI русский язык все так же любит резкость, только теперь вместо эпиграмм в ходу короткое и универсальное **** — сетевое междометие на все случаи жизни, от восхищения до ужаса.
Между пушкинской иронией и мемами из Twitter — длинный и богатый маршрут русского мата. Как он пробрался в литературу, пережил уголовные запреты, сократился до трехбуквенных слов, но не растерял выразительности — об этом написана книга «Запретные слова. Заметки лингвистов о русском мате».
Авторы — доктора филологических наук Анатолий Баранов и Дмитрий Добровольский — собрали всё: от анекдотов до судебных исков за три буквы. Мы прочитали их труд и выбрали самое занятное — то, что заставляет смеяться, удивляться и, конечно, ругаться (внутренне, но крепко).

Нецензурная классика: роль мата в русской литературе
Крепкое слово никогда не было чуждо «высокой» литературе. В книге «Запретные слова» Пушкин фигурирует не только с эпиграммой про князя‑Дундука, но и с более дерзким пассажем из баллады «Тень Баркова», где мат превращается в гротеск, подчеркивая пародийность текста и игру с барковской традицией.
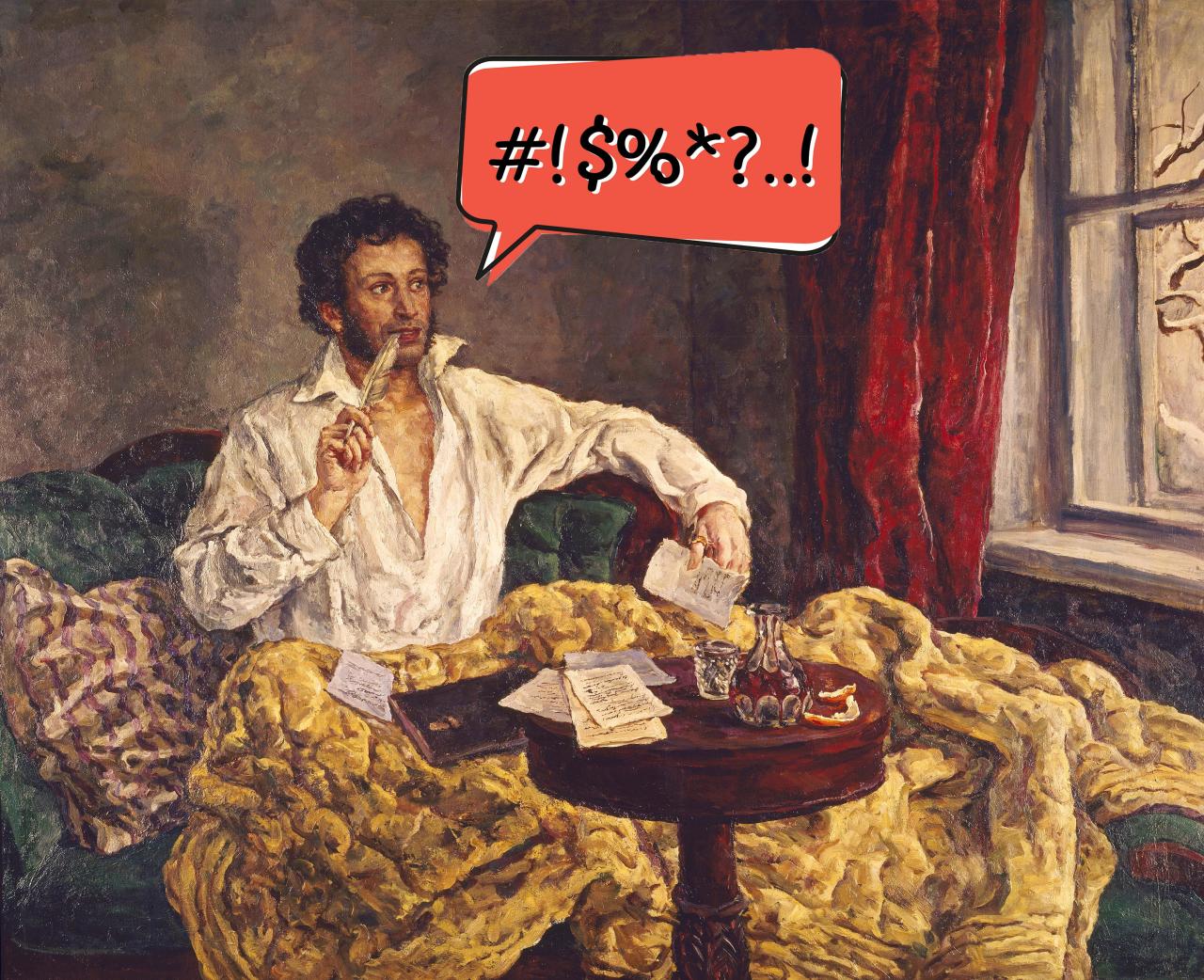 фото:
фото: Legion Media; коллаж MAXIM
Николай Некрасов использует обсценную лексику иначе — как прием документальной точности. В путевых стихах он замечает, что вернувшись «из Кёнигсберга», «выпил русского настою, услыхал — *** *** — и пошли передо мною рожи русские плясать». Одним ударным междометием поэт оживляет картину ярмарочного шабаша и социального контраста.
Авторы приводят и более технический пример: выражение ***ская строка — типографский термин XVIII–XIX вв. для короткой перенесенной строки. Слово выглядело настолько обыденно, что попало даже в академическую лексикографию Даля. Получается, что одно и то же обсценное корневое слово в художественном тексте шокирует, а в профессиональном жаргоне звучит почти нейтрально.
Даже респектабельный Федор Михайлович Достоевский, известный своей тягой к нравственным терзаниям, признавал странный парадокс: «Народ сквернословит зря… это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире». Но при этом, подчеркивал писатель, этот же народ — вовсе не развратный, а даже целомудренный.
И вот тут начинается самое интересное: мат в русской культуре — это не столько про пошлость, сколько про силу. Энергия, с которой произносятся крепкие слова, часто важнее их буквального смысла. В русском языке обсценная лексика давно работает как способ передать не суть, а эмоцию. Не зря же в разговорной речи «иди на ***» может значить почти все — от «отстань» до «все ясно, до свидания».
Авторы «Запретных слов» считают: мат — не симптом культурной деградации, а полноценный инструмент выражения. Иногда грубый, но честный.
«В словаре не значится»: как мат пытались изучать и упорядочивать
Русский мат всегда занимал парадоксальное положение в культуре. С одной стороны, им пользовались почти все слои общества, а с другой — вплоть до недавнего времени он практически полностью отсутствовал в официальных словарях и научных исследованиях. В «Запретных словах» Анатолий Баранов и Дмитрий Добровольский подробно описывают этот феномен: мат широко употреблялся, но официальная лексикография словно не признавала его существования.

«Дворник, отдающий квартиру барыне» — картина русского художника Василия Григорьевича Перова
, фото:ARTGEN / Legion Media
Одной из первых попыток научно зафиксировать нецензурную лексику в России стал знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля. Даже такой подробный и обстоятельный словарь, по словам авторов книги, был крайне осторожен: грубые выражения фиксировались лишь выборочно и часто сопровождались эвфемизмами или оговорками. Более откровенно обсценная лексика появилась только в третьем издании словаря под редакцией Ивана Бодуэна де Куртенэ, где основные нецензурные слова были описаны лаконично и точно.
В советский период отношение к подобным словам стало ещё более противоречивым. Авторитетные издания, такие как Большой и Малый академические словари русского языка, полностью исключили из своих страниц не только собственно нецензурные выражения, но и многие распространённые грубые слова, вроде общеизвестного просторечного обозначения мягкого места. Только в начале 1990-х годов, как отмечают авторы книги, словарь Ожегова и Шведовой впервые включил это выражение с осторожной пометкой «прост., груб.».

Советский плакат
, фото:соцсети
В конце XX века некоторые филологи предпринимали попытки создать словари запрещённой лексики. Среди них были работы Алексея Плуцера-Сарно и Татьяны Ахметовой. Однако авторы «Запретных слов» подчеркивают, что эти словари скорее эпатировали публику, чем действительно описывали реальное положение дел.
Например, Плуцер-Сарно приводил десятки и даже сотни значений одного и того же слова, по сути фиксируя отдельные контексты его употребления. Ахметова же в своих толкованиях использовала сами же запрещённые слова, нарушая важнейшее словарное правило объяснять «сложное через простое».
По мнению Баранова и Добровольского, отсутствие серьезного научного подхода и четких критериев сильно усложняло изучение русского мата, превращая эту область языка в своеобразную «терра инкогнита».
Только в XXI веке появились удачные примеры словарей, которые смогли ясно и понятно описать значения и оттенки запрещённых выражений. Один из таких удачных примеров, приведённых в книге, — словарь Василия Химика, подробно описывающий множество производных форм от нецензурных слов.
Таким образом, прежде чем русский мат попал в интернет и приобрел там новые формы и смыслы, он прошел долгий путь — от полного запрета и осторожного упоминания в первых словарях XIX века до постепенного признания и более смелого изучения в конце XX — начале XXI века.
Как мат мутировал в интернете и стал еще выразительнее
Онлайн-общение не любит длинных фраз: надо высказаться быстро, четко и желательно так, чтобы собеседник понял все с двух букв. Именно в этом цифровом аду для классической пунктуации русский мат расцвел новыми красками.
 фото: Shutterstock/Fotodom.ru
фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ книге «Запретные слова» авторы показывают, как привычные обсценные выражения сжимаются до предела — но не теряют в выразительности.
Самым универсальным междометием стало *** (совершать половой акт) — реакция на все, от неожиданной победы до абсолютной катастрофы. Постепенно оно обрастает новыми формами: «****ший (очень хороший) фильм», «****ше (очень) смешно» — русский язык в интернете оказался более изобретательным, чем любой словарь.
Алгоритмы соцсетей не пускают ***? Получай «*@*» или «*ъ**». И в этом вся суть: даже под давлением цензуры русский мат не умирает, а мутирует и адаптируется — как вирус. Быстрота, с которой рождаются новые формы, впечатляет: если раньше на это уходили десятилетия, то теперь хватает пары дней и пары мемов.
Почему мат нельзя вычеркнуть без последствий
«Убери запретное — и русский язык оскудеет», — пишут Баранов и Добровольский. И тут они не перегибают: мат — это не просто ругань, а особый стиль общения, в котором важен не столько смысл слова, сколько интонация, контекст и отношение.
 фото:
фото: кадр из фильма «Горько», 2013
Одно и то же выражение может звучать как оскорбление, как шутка между друзьями или как термин из типографии — достаточно вспомнить «***скую строку» из словарей. Вырежи этот слой — и речь станет беднее, прямолинейнее и куда менее живой.
К тому же, мат — это социальный клапан. Он позволяет быстро и четко выразить эмоции, не вдаваясь в нюансы. Удивление, злость, восторг, отвращение — все это в русском языке давно упаковано в короткие обсценные формулы. Без них остаются только унылое «вот это да».
И, наконец, матерная лексика — это маркер времени. Она показывает, как меняется общество, что его волнует и раздражает, как язык приспосабливается к новым правилам, но не сдает позиций.
 DayTimeNews.RU
DayTimeNews.RU
 СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: