
Автор романов «Город Брежнев» и «Снарк снарк» о лисах, мухах и современных российских писателях.
 фото:
фото: Ира Полярная
29 апреля в «Яндекс Книгах» выходит заключительный эпизод книжного сериала «Смех лисы» Шамиля Идиатуллина. В связи с этим MAXIM задал писателю самые наболевшие вопросы.
Начнем, пожалуй, с самого начала. Откуда взялась лиса?
Моя лиса не оборотень и вообще не мистическое создание, а тупо переносчик заразы. Как у Пети Мамонова была муха, так у меня лиса. Это не делает ее инфернальным существом, она, бедненькая, не виновата, она просто любопытная.
Мне нужна была какая-то болезнь, поскольку в «Смехе лисы» все вертится вокруг боевых вирусов, разработанных японской военщиной. Японские милитаристы в 40-е годы действительно разрабатывали смертельные виды биологического и бактериологического оружия на территории Маньчжурии и Китая. Назывались эти лаборатории «ветеринарными отрядами». Поначалу прицел у них, понятное дело, был на то, чтобы поражать скот, а потом перешли на людей.
А как известно людям, проживающим в степях и лесостепной зоне, лисы, мыши и птицы — самые верные разносчики эпидемий.
А вы вообще любите животных? Скажу сразу: это вопрос с подвохом в контексте того, чем заканчивается первая часть вашего сериала.
(Смеется.) Я городской ребенок, городских детей воспитывали в мое советское время в такой абстрактной любви к животным. В отличие от деревенских, мы были избавлены от более плотного контакта с ними. Нам не надо было, во-первых, за коровами и курами ухаживать, а во-вторых, смотреть, как им головы рубят, и самим при этом присутствовать.
Я в детстве мечтал о собаке. Она появилась уже в юности. Старший брат завел. И я довольно долго считал себя исключительно собачником. А потом в семье появилась кошка, которая стала определять 70% контента, выкладываемого мною в соцсети. Ее уход был большим потрясением. Я был владельцем собаки, кошки и лошади. Все они покинули меня, это было тяжело. Поэтому — спойлер — можно сильно не бояться за судьбу книжных животных. Так что я любитель всего живого, который пытается в этом не признаваться.
Кого больше любите — людей или животных?
Людей. Конечно, людей. Я еще и верующий человек, то есть исхожу из того, что Господь непознаваем, он сам исходил из того, кого как создавать, но все-таки человек был его излюбленным детищем, и именно люди — носители живой души, а животные, несмотря ни на что, души не имеют. Но у меня все-таки есть небольшая надежда, что если будем себя хорошо вести, то на том свете с нами рядом будут все, кого мы любим, в том числе и животные.
Ладно, за животных больше можно не переживать. А насколько, на ваш взгляд, формат книжного сериала гуманен по отношению к читателям?
Это, с одной стороны, страшное издевательство и ужас-ужас. С другой — это издевательство благословленное многолетней традицией. То есть сам по себе роман в современном его виде — это штука, которая появилась во второй половине XIX века, и появилась она в виде отдельных выпусков.
Есть живые свидетельства того, как половина Америки стоит на бостонском побережье и ждет парохода из Англии, который привезет новые выпуски Диккенса: «Крошки Доррит» или «Дэвида Копперфилда». Лев Николаевич Толстой тоже «Войну и мир» издавал кусками. Практически вся русская классика и мировая тоже поначалу выходили в отдельных выпусках.
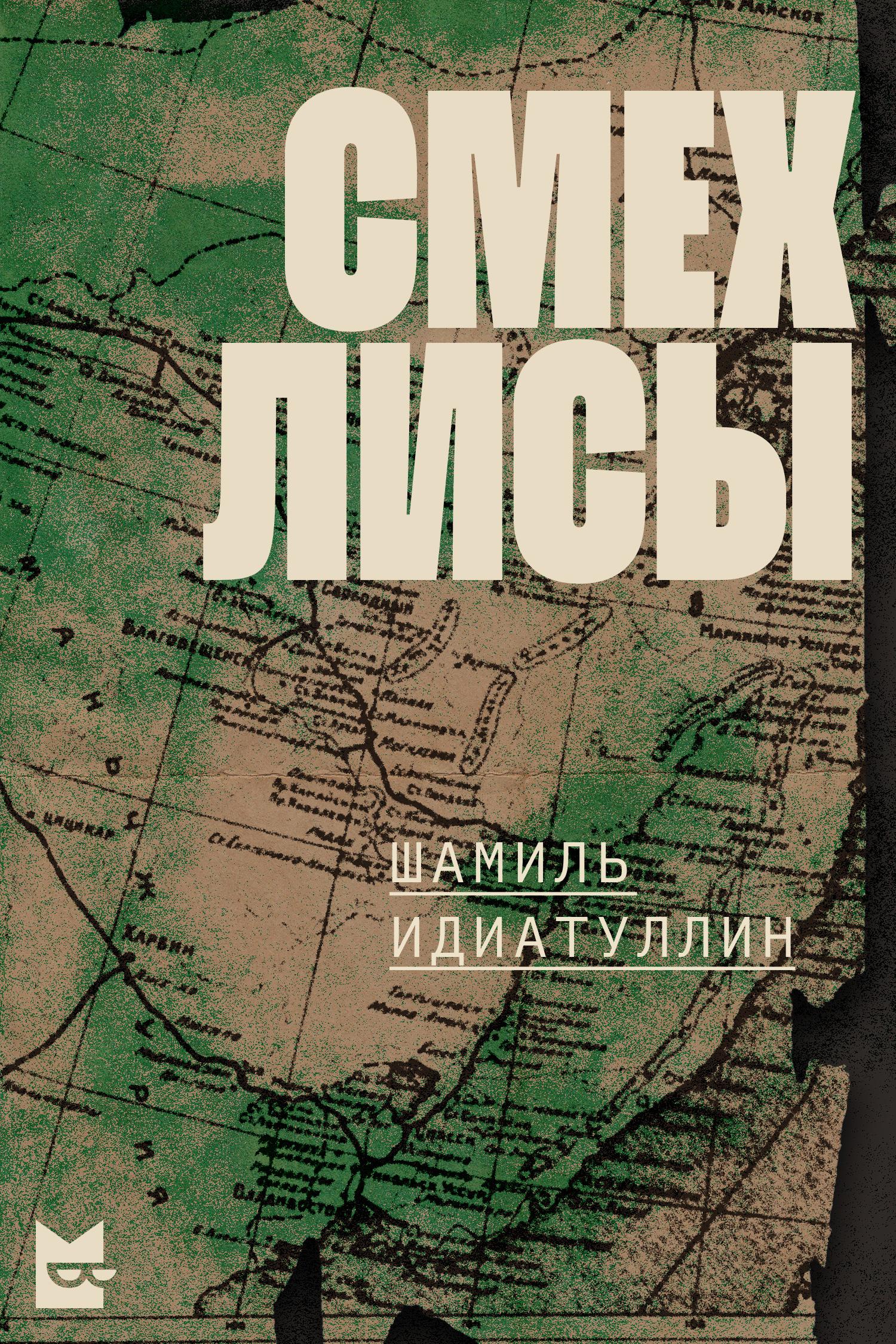
Опять же опыт моего детства заставляет немедленно вспомнить и журналы «Пионер» с повестями Крапивина, и журналы «Костер» с повестями Коваля, и «Пионерскую правду» с повестями Кира Булычева. Это, с одной стороны, была сладкая мука ждать, мучиться от того, что все закончилось на самом интересном месте. И когда меня впервые «Букмейт», еще не ставший «Яндекс Книгами», несколько лет назад пригласил писать мой первый книжный сериал «Возвращение „Пионера“», у меня были определенные сомнения в том, что это гуманно.
Когда публикация таки стартовала и я наблюдал за тем, как это заходит для читателя, сперва было немножко стыдно. А потом стыд, как положено, подстерся, и, когда я читал отзывы читателей в соцсетях, думал: «Ага, вы не знаете, что там дальше, один я знаю! Сказать? А нет, не скажу!»
Как у вас хватает времени так активно вести соцсети, учитывая вашу работу — и журналистскую, и писательскую?
Да это неактивно, это по большей части клапан спуска пара, потому что я работаю в очень форматных средах. В «Коммерсанте» шаг влево, шаг вправо от формата — расстрел. С книжками тоже далеко не отойдешь. Даже когда я очень глумлив, приходится к этому относиться максимально серьезно. То есть на губах ухмылка, в глазах ужас, который не надо показывать.
А природная живость нрава, глупость, бессмысленность и вообще любовь к идиотским каламбурам, почетное членство в «Клубе тупой шутки», которое предусматривает невозможность, если придумал тупую шутку, не сказать ее, заставляет либо задыхаться, либо пар стравливать. Я этим делом занимаюсь и в соцсетях.
Вы редактор, не мешает ли это вам — автору? Нет ли у вас желания перередактировать редактуру ваших текстов, например?
Я спорю, конечно, с редактурой, как правило. Или не спорю, когда действительно косяк. Самая выносящая меня правка — это когда меняют запятые на тире, а тире на запятые. Я уже превентивно прошу этим не заниматься. Но что касается значимых правок, то у меня есть план, и я его придерживаюсь.
То есть я исхожу из того, что, во-первых, я понимаю и знаю, что я хочу написать; во-вторых, я могу при этом ошибиться и накосячить, мои знания несовершенны, моя эрудиция сплошь в дырах. У меня нет классического образования — ни филологического, ни литературного. Я окончил журфак, который представлял собой произвольно усеченный, урезанный филфак, дополненный странноватыми предметами. То, что я набрал самоучкой, очень не систематизировано, поэтому я могу путаться и ошибаться в самых примитивных и самых неожиданных вещах. Поэтому у меня всегда под рукой словари. Тредиаковскому можно было так писать, а мне нельзя? Идите на фиг, я буду так писать. Иногда удается их перебороть.
 фото:
фото: Ира Полярная
На обложке стоит моя фамилия. Не редактора, не издателя. Поэтому я несу ответственность, давайте я ее понесу. Редакторские скиллы, конечно, придают мне не то чтобы сил, но инструментарий для того, чтобы обоснованно спорить. И редактор не обижается, потому что редакторы у меня святые люди, в общем-то несчастные, замотанные, к сожалению, менее оплачиваемые, чем они заслужили, и терпящие меня.
Вы вообще строгий редактор?
Я не строгий, я тупой. То есть есть правило, закон. Мы по нему идем, мы его соблюдаем. Соблюли закон — дальше уже можно гулять направо-налево. Я довольно много себе всегда позволял и позволяю в текстах. По этому поводу я был, когда еще работал в Казани, живой легендой «Коммерсанта», потому что когда я приезжал в Москву, ко мне подбегали из разных отделов, хватали за руку и говорили: «Можно мы посмотрим, что действительно есть такой Идиатуллин, который настолько наглый, что в Москву в федеральную газету высылает фразы типа „Власти рубят сук под собой, причем всех“ или „Россия и Татарстан связаны единой кровеносной системой, которая душит их все сильнее“. Это все вычеркивалось, но всегда мне объясняли, что плакали, когда это вычеркивали, потому что это не формат.
У нас [в «Коммерсанте»] есть Колесников, который пишет так, может себе позволить, но Колесникова не может быть больше одного. И сейчас я эту фразу с удовольствием повторяю своим сотрудникам.
Но при этом вы любите каламбуры.
Да, да. Мне очень интересно играть с языком всегда.
Есть отдельная категория читателей, к счастью не очень большая, утомляющаяся мной, которая исходит из того, что чувак, в принципе, умеет писать, умеет строить сюжет, умеет хватать важные темы, умеет выстраивать более-менее живых людей, персонажей. Фиг ли он все время хохмит? Зачем ему все время жонглирование словами и постоянные каламбуры?
По поводу первых книг я, наверное, с ними согласен, потому что тогда я, как сейчас понимаю, еще не нашел баланса между тем, что и как, и поэтому позволял себе много лишнего. С другой стороны, ну, блин, если мы в молодости не позволяем себе лишнего, то когда еще можно-то?
Сейчас я вроде взял себя в руки и пытаюсь выдерживать баланс, потому что, мне кажется, язык должен быть красивым. Для меня это не только точность, но и хлесткость. Многие с этим не согласны, но, слава богу, у этих многих всегда есть огромное количество других авторов. Вот, флаг в руки.
А мне нравится вот так, у меня своя микроэкологическая ниша размерами с мою голову. Вот в ней и сидим.
Был ли у вас момент, когда вы поняли, что перестали быть молодым начинающим автором и стали маститым классиком?
Мне сразу просто повезло. Я с самого начала был начинающим, но не молодым. У меня первая книжка вышла, когда мне было уже за 30, а по нынешним временам девочки-мальчики к 18-19 годам уже по два романа имеют. Большая часть вполне себе признанных классиков, которые стали публиковаться гораздо раньше меня, сильно меня моложе. Леша Сальников, Эдик Веркин. При этом они уже были вполне себе знаменитые, а я — что-то непонятное. И я с этим смирился. Вообще, в 35 лет переживать по каким-то поводам, не связанным с семейной жизнью, уже странно.
Первая книжка у меня вышла в конце 2004 года. С пятого и до седьмого года я провел в режиме «Товарищ Сталин, произошла страшная ошибка, я классный автор, заметьте меня, пожалуйста». Ну не то что заметьте, а «Почему не читают?» Но я довольно быстро успокоился. Этому помогло, конечно, то обстоятельство, что у меня был огромный опыт незамечания моих печатных текстов ранее. То есть я пишу заметку, она порвет мир, она заставит вспыхнуть дикий скандал, я буду из судов не вылезать, я получу какую-нибудь супер премию, мне будут дышать в трубку. Ее замечают три человека, ее перепечатывает пять газет. Они получают свою долю славы, я не получаю ничего. Ну, окей, нормально.
Кем труднее быть в современной России, писателем или журналистом?
Журналистом, конечно. Писатели находятся, в отличие от большого количества деятелей культуры, в выигрышном положении, потому что они малозаметны. Потому что, с одной стороны, люди, которые могут их наказать, что-то им предписать и прочее, книги не читают. А с другой стороны, книжный бизнес очень малозначим как с материальной, так и, к сожалению, с моральной точки зрения. Репутация писателя как инженера человеческих душ, все больше и больше уходит, и очевидно, что любой тиктокер или YouTube-блогер, рассказывающий про распаковку смартфонов, априори набирает на порядки, в сотни раз больше интересантов, чем лучший писатель, которого через 50-100 лет гарантированно будут читать, обливаясь слезами, благодарные читатели, а этих всех забудут. Ну это нормально, так обычно и бывает.
И из-за этого пригляд за писателями меньше. Он есть, он существует, последние события это доказывают, но все равно там хватаются за то, что нечаянно рандомным способом зацепили, а не потому, что кто-то его читает и знает про книги все. Книги читают люди, книгами и занимающиеся. Нас, к сожалению или к счастью, не слишком много. И мы сами на себя не стучим.
Журналисты же сидят на двойной красной линии, на которую все время падают какие-то то мечи, то копья, то блоки, то каток проезжает, и в общем-то шаг влево, шаг вправо при этом карается очень-очень жестко. И я очень по этому поводу сожалею. Мне представляется одной из главных моих личных потерь, что журналистика, которой я всю жизнь отдал, сегодня выглядит так. Но это не главная потеря нашего времени. Это-то мы переживаем, пережить бы остальное.
 DayTimeNews.RU
DayTimeNews.RU
 СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: